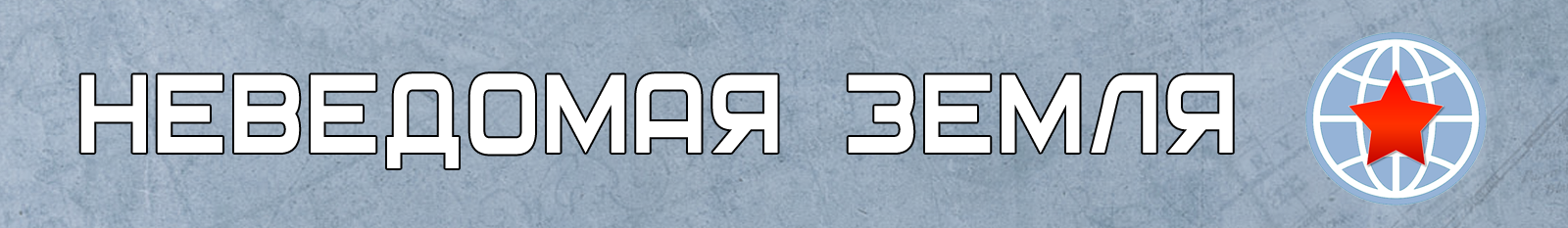Публикуем фрагменты из статьи турецкого поэта и революционера Назыма Хикмета, написанной и опубликованной в 1964 году. Этот текст, прежде всего, – памятник своего времени, отражение спора Хикмета с тем официальным пониманием «социалистического реализма», которое сложилось в СССР в сталинский период. Соцреализм, хотя именовался творческим методом, по факту понимался как определённый стиль в искусстве: чтобы всё было нравоучительно и пафосно, как в классицизме XVIII века, только с иной, идеологически верной, фразеологией, и при этом внешне правдоподобно, как фотография (а всё, что не укладывалось в этот шаблон, осуждалось как формализм или иная ересь). Когда Хикмет в 1951 году поселился в Москве и столкнулся с этим стилем на сценах московских театров, он пришёл в ужас и заявил, что это «мелкобуржуазное, безвкусное искусство» с налётом подхалимства, которое по какому-то недоразумению именует себя реализмом, да ещё и социалистическим. Настоящий социалистический реализм для него – это именно метод, способ, с помощью которого художник-коммунист воспринимает жизнь вокруг себя, руководствуясь своим мировоззрением; но то, как именно, в каких формах он отражает её в своём творчестве, зависит от него самого. И чем разнообразнее эти формы, чем точнее они выражают содержание, тем лучше.
Называя себя поэтом, служащим своему народу и своей партии, Хикмет подчёркивает, что он сам является частью и народа, и партии, его служение им – не прислужничество какой-то внешней по отношению к нему силе, а выражение его собственных взглядов, чувств, гражданской позиции. А своей задачей как поэта он ставит не только распространять идеи партии в народе, но и «открыть перед партией душу народа». Это было невероятно далеко от окриков Хрущёва: «По команде, в ногу, с партией, с народом!» на его встрече с литераторами в 1963 году, от представлений о том, что деятели искусства обязаны служить партии как послушные исполнители воли её руководства, что их задача – «промывать людям мозги» (тоже дословная цитата из речей Хрущёва). Назым Хикмет, который за верность своим убеждениям заплатил долгими годами тюрьмы у себя на родине, в Турции, вполне доказал искренность своих взглядов на роль художника-коммуниста и своей жизнью, и своим творчеством, в том числе написанными уже в СССР пьесами, в которых не боялся ставить острые вопросы и проблемы.
В то же время многие мысли, которые Хикмет высказывает в этом тексте, ценны и сегодня и перекликаются с нашими собственными мыслями:
- о взаимоотношениях человека, творящего социальное искусство, со своей аудиторией;
- о необходимости постоянного творческого поиска;
- о том, что не только можно, но и нужно искать разные формы, подходящие для передачи разного содержания, не абсолютизировать какой-то один жанр, стиль, приём и не зацикливаться на нём;
- о том, что социальное искусство, чтобы быть по-настоящему живым и полнокровным, должно отражать всю полноту личности творца, а не только его отношение к политике;
- о важности внимания к наследию разных национальных культур и разных регионов планеты.
Такие мысли выделены нами в тексте курсивом.
Источник текста: Хикмет Н. О социалистическом реализме и турецкой литературе // Хикмет Н. Избранное. В 2 т. Т.2. М., 1987. С.323-326.
* * *
[…] Я — коммунист. Я хочу, чтобы искусство служило народу. Но было немало писателей-некоммунистов, они есть и сейчас, которые также хотят, чтобы искусство служило народу. Я отличаюсь от них, прежде всего, тем, что коммунизм как общественная формация признаётся мной социальной необходимостью. Я уверен, что с полной победой коммунизма на земле человечество приобретёт счастье, человечество выйдет из эпохи доисторической и войдёт в эпоху историческую. Коммунизм, таким образом, я считаю единственной возможностью счастья как для своего народа, так и для всех других народов. Поэтому в служении победе коммунизма я вижу наилучший способ своего служения моему народу и всем народам. И поскольку я признаю руководящую роль коммунистических партий в победе коммунизма, я отдал своё искусство в распоряжение своей коммунистической партии, то есть в распоряжение своего народа, ибо нет разницы между интересами народа и интересами партии. Я должен здесь разъяснить, что я понимаю под словами «отдать в распоряжение». Нельзя противопоставлять понятия: народ и я — поэт. Я — поэт своего народа и, разумеется, прежде всего, рабочего класса. Служа народу, я тем самым служу и самому себе, как частице этого народа. А что касается моих взаимоотношений с партией, то я вступил в партию добровольно, сознательно. Это раз. Во-вторых, с одной стороны, я пропагандирую среди народа цели партии, то есть коммунизм, и лозунги партии, то есть вехи борьбы за коммунизм. Своим искусством я призываю народ к коммунизму, то есть к осуществлению мечты самого народа. Вместе с тем с помощью своего искусства я стараюсь открыть перед своей партией душу народа. Таким образом, мои взаимоотношения как с народом, так и с партией не пассивные, а активные.
Я говорил, что было и есть немало писателей, которые хотят, чтобы искусство служило народу. Я коротко изложил, чем я отличаюсь от них в этом вопросе. Но это не всё. Поскольку я коммунист, я сторонник социалистического реализма. Что я под этим понимаю? По-моему, произведение каждого писателя — подлинного марксиста-ленинца было произведением социалистического реализма ещё до того, как возник и утвердился самый термин. […] Мне могут сказать, что не у всех слова сходятся с делами, одно дело то, что человек декларирует, другое, что он претворяет в жизнь. Это верно, но я имею в виду тех, у кого теория не расходится с практикой.
[…] Для каждого художника — марксиста-ленинца наш мозг, наша душа не есть простое зеркало, они не только отражают полученные из внешнего мира ощущения, но и обрабатывают их, придают им соответствующую форму. Важнейшим пунктом, отличающим художников социалистического реализма от предшествующих и нынешних художников-реалистов, является то, что мы — марксисты-ленинцы, и мы не скрываем этого. В этом, в главных чертах, состоит, на мой взгляд, основное различие.
В вопросах же стиля и его особенностей у каждого художника социалистического реализма могут быть свои черты и взгляды: если он живописец, у него своё понимание цвета, объёма, композиции; если он поэт, у него своё понятие о рифме, размере, языке, образе. Так и должно быть. Человек может служить народу и партии независимо от того, пишет ли он стихи с рифмой или без размера, с обилием образов или нет и т. п. Служение народу и партии творческой деятельностью в театре ничего общего не имеет, например, с игрой в декорациях или без декораций, в гриме или без грима, не зависит от того, употребляем ли мы для изображения снегопада нафталин или вату, или же делаем это с помощью света, а то и просто передаём словами — «падает снег», и т. д. и т. п. Увидеть служение партии и народу в том, что избирается какая-либо форма сама по себе, превратить проблему этого служения в самодовлеющую проблему формы — это и есть настоящий формализм.
Я лично убеждён, что для конкретного содержания следует всегда искать наиболее соответствующую ему форму. Сначала я писал стихи классическими и народными размерами, но особенно после приезда в Советский Союз в 1921 году я стал искать новые возможности в форме стиха и писал стихи своеобразным свободным размером. В его основе были всё те же размеры турецкой народной поэзии и даже «аруз»[1]. В отношении рифмы и языка было то же самое. Но, несмотря на это, я в то время стал утверждать, что стихи могут быть написаны только таким образом, что это есть единственная поэтическая форма. Долгое время я не писал стихов о любви. Я даже не употреблял слова «сердце» в своих стихах, так как мне казалось, что сердце является символом не разума, а чувства. Но сейчас я пользуюсь всеми формами. Я пишу и размером народной поэзии, и с рифмами, и делаю совершенно обратное — пишу языком обыкновенного разговора, без рифм, без размера. В стихах я говорю о любви и о мире, о революции и о жизни, о смерти и о радости, о грусти, о надежде и о безутешности. Я хочу, чтобы всё, что свойственно человеку, было бы свойственно и моему стиху. Я хочу, чтобы читатель нашёл во мне или в нас отражение всех своих чувств. Пусть он прочтёт нас и тогда, когда он хочет читать стихи о Первом мая, и тогда, когда он ищет стихов о своей безответной любви. Я хочу писать и такие стихи, где говорится о самом себе, и такие, где я обращаюсь к миллионам. Я хочу писать стихи и об одном яблоке, и о вспаханной земле, о мыслях и думах человека, вернувшегося из застенка, о борьбе людей за лучшую жизнь на земле и о любовной тоске одного человека. Я хочу писать стихи и о страхе перед смертью, и о бесстрашии перед нею.
С тех пор, как я стал коммунистом, я жду от искусства и требую от него одного: оно должно служить народу, должно призывать народ к коммунизму, оно должно отображать страдания, гнев, надежду, радость и мечту народа. Оно должно организовывать народ на борьбу за торжество коммунизма. Это — суть моего понимания искусства, и это никогда не меняется. Всё остальное —театральный грим, отношение к рифме, к ритму, одним словом, всё то, что составляет художественные приёмы произведения, — постоянно менялось, меняется и сейчас и будет меняться в дальнейшем. Между двумя писателями-коммунистами не может быть различия в понимании главного вопроса в искусстве —вопроса о роли и назначении искусства, о его основной направленности и содержании, о партийности его. Отличия начинают проявляться лишь после признания этих основных принципов. Так оно и должно быть. Ведь социалистический реализм мы потому и считаем единым творческим методом деятелей социалистического искусства, а вовсе не единым стилем, не единой манерой творчества, что он не сковывает художника, а, наоборот, даёт ему действительную свободу для подлинного творчества. Разве существуют в мире два художника с одинаковым эмоциональным складом, с одинаковой образностью мышления? Конечно, нет. Но существуют ли в мире два художника, у которых выявление этого мышления было бы направлено к одной цели — к цели воспитания и переделки людей в духе коммунизма? Конечно, существуют. И не два, не четыре, не десять, не сто, а тысячи честных художников, стремящихся своим творческим трудом переделать мир, жизнь, людей. Метод социалистического реализма как метод революционный и ставит перед художниками прогрессивные, революционные задачи и цели, указывает способы и пути подхода к явлениям действительности, но он не предусматривает нормативы, каноны, приёмы эмоционального отношения и художественного осмысления жизни, не предусматривает каких-то обязательных средств выражения, через которые это осмысление будет доведено до сознания людей.
[…] Одно время некоторые наши ретивые критики старались объявить стиль чисто внешнего изображения событий, природы и человеческой души якобы единственным стилем, присущим социалистическому реализму. Мы были свидетелями этого, особенного в живописи, скульптуре и театре. Например, в живописи жанровая картина стала подобными критиками признаваться чуть ли не единственно приемлемой, они почти начисто отрицали натюрморт и пейзаж.
Бесспорно, что жанровая живопись более доступна зрителю, более доходчива. Но нужно, чтобы то, на что я смотрю, обращалось ко мне, прежде всего, специфическим языком живописи, включающем в себя всё разнообразие жанровых форм.
По-моему, у искусства социалистического реализма есть два врага: ревизионизм и сектантский догматизм […] Отождествляя понятия «метод» и «стиль», и те, и другие лишают понятия социалистического реализма его истинного содержания. Ревизионисты пытаются опорочить метод социалистического реализма, это художественное видение мира, опирающееся на сознательное марксистско-ленинское мировоззрение, измышлением, будто социалистический реализм «предписывает» некую художественную униформу всему искусству. Сектанты и догматики помогают ревизионистам в клевете на социалистический реализм, и, поскольку они прикрываются при этом своей мнимой верностью принципам марксизма-ленинизма, — а эти принципы являются для меня самым дорогим, — я хочу решительно возразить им, ибо от таких «защитников» социалистического реализма наши принципы искусства коммунизма нужно отстаивать с не меньшей страстью, чем от открытых ревизионистских врагов его. Сектанство — это убеждение в достижении абсолютной истины в стиле и изобразительной технике. Подражание, безвкусие, косность также являются проявлением сектанства.
Каждый художник, особенно художник марксист-ленинец, то есть каждый художник социалистического реализма, всегда продолжает искать.
В этом процессе искания он будет стараться находить наиболее соответствующую форму для каждого конкретного содержания, стараться, сохраняя свою индивидуальность, не подражать другому, не повторять другого. Он не будет признавать никаких абсолютных, неизменяющихся правил и норм в искусстве, кроме одного закона — отображать действительность глазами, умом и сердцем марксиста-ленинца. Он, разумеется, будет пользоваться испытанными практикой правилами в искусстве. Он, конечно, будет пользоваться традицией своего народного искусства, искусства других народов, традицией своих и мировых классиков. Но будет только пользоваться — как трамплином, а не как кандалами на ногах.
Я хочу здесь сказать два слова по вопросу об этих традициях. Мы коммунисты, и, разумеется, мы, художники-коммунисты, считаем себя наследниками всех богатств, созданных всем человечеством, наследниками общечеловеческой культуры. Я обращаю ваше внимание на слово «общечеловеческая». Человечество — это не только народы Европы, древней Греции, Рима, это не только Ренессанс. Это — весь мир с его Азией и Африкой, Америкой. Вклад классиков и мастеров народного искусства Китая, Японии, Индии, Ирана, Турции в сокровищницу человеческой культуры ничуть не менее значителен, чем вклад Европы, Рима или Ренессанса. Это верно как для литературы, так и для живописи, скульптуры, танцев.
Возьмём, например, всё возрастающее влияние живописи, музыки, танцев, скульптуры, архитектуры, театра и поэзии народов стран Азии и Африки на культуру Запада. Влияние, которое началось ещё в XIX веке и продолжается по сей день.
Года два-три тому назад газета «Летр франсез» писала, что французские художники-импрессионисты довольно широко воспользовались переведёнными на французский язык стихотворными наставлениями одного турецкого поэта о природе красок в миниатюрах. Или возьмём Матисса. О влиянии на его живопись классической японской и китайской живописи широко известно. В чём, например, обвиняло Пикассо расистское псевдоакадемическое искусствоведение, нашедшее самое уродливое выражение в гитлеристской доктрине искусства? В том, что он содействовал деградации западной культуры. По мнению расистов, Пикассо носит в себе микробы низших, неевропейских рас. По их же мнению, проникновение негритянской музыки и особенно негритянской танцевальной музыки и негритянского танца в белый храм западной музыки и танца есть величайшее несчастье для Запада. Поистине чудесные возможности ритма становятся известными Западу благодаря нашим бубнам, барабанам, тамтамам. Разве можно не видеть влияния азиатской и африканской скульптуры на многие образцы западной скульптуры наших дней? А современная западная архитектура? Разве не заметно принципиальной сходство между архитектурой современных жилых домов на Западе и национальной японской архитектурой жилых домов, несмотря на то, что они применяют разные, а иногда и совершенно противоположные материалы? Наши низкие столы и стулья стали предметом подражания мебельщиков Запада. Надо быть слепым, чтобы не заметить влияния театра Азии на творчество таких больших мастеров театра, как В. Мейерхольд и Б. Брехт, и на других крупнейших представителей сцены. Влияние поэзии Азии на западную поэзию прослеживается уже в XVIII века […]
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Аруз – размер стихосложения в арабской поэзии, основанный на чередовании длинных и коротких слогов.