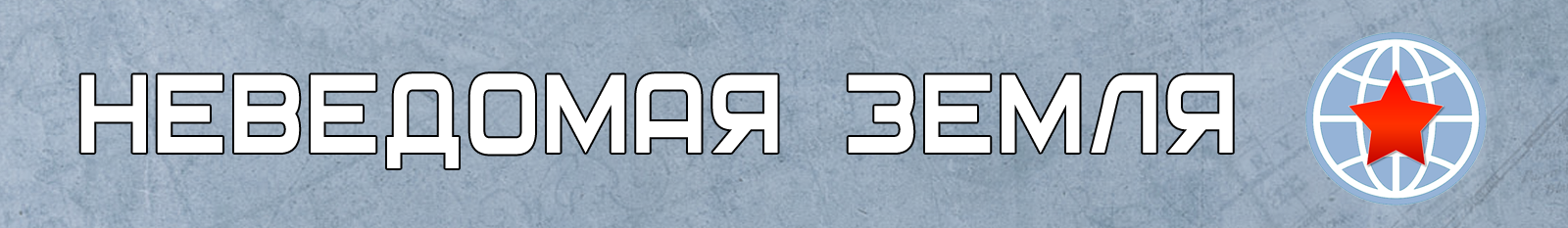Анна Лацис. Красная гвоздика. Воспоминания. Рига, 1984. 183 с. [скачать PDF].

Анна (Ася) Эрнестовна Лацис (1891-1979) – представительница интернационального революционного искусства ХХ века. Актриса и режиссёр, работавшая в Советской России, Латвии и Германии, она была, в том числе, одним из первых теоретиков и практиков детского театра – то есть не театра для детей, где на сцене выступают взрослые актёры, а именно такого, в котором актёрами являются сами дети. Это было в русле революционной эпохи, когда идея самодеятельности захватила, в том числе, и самых маленьких, а искусство перестало быть уделом привилегированного меньшинства и шагнуло в самую гущу народа.
В мемуарах Лацис отражены ключевые моменты её собственного детства и отрочества, повлиявшие на становление личности: горечь от ощущения социального неравенства (дочь рабочего, она училась в гимназии, среди детей из богатых семей); страстный интерес к искусству, литературе, путешествиям, к «большому миру»; протест против буржуазной благопристойности, вплоть до вырезания дырок на собственных чулках. Слишком многие люди, повзрослев, забывают, каково это – быть ребёнком. Ася Лацис была не из их числа. Она хорошо понимала и чувствовала детей. «Дети любят играть, для них это целая жизнь», – так она сформулировала секрет своего успеха, когда в качестве репетитора смогла приобщить к учёбе двух раздолбаев. И этот же приём она применяла впоследствии, став режиссёром, в Орле, когда не побоялась «пойти против всех законов педагогики» и позволила сквернословящим беспризорникам изображать разбойников в спектакле, потому что это получалось у них очень уж натурально. Беспризорники, которых до этого никак не удавалось заинтересовать театром, после этого случая стали полноправными членами коллектива. Дать детям как можно больше самостоятельности, возможностей для импровизации – таков был главный принцип Лацис, который она применяла везде и всегда.
Впрочем, в книге Лацис рассказывается далеко не только о работе с детьми. Перемещаясь, иногда вынужденно, из одной страны в другую, подобно многим представителям того поколения коммунистов, она своей деятельностью связывала между собой и разные сферы культуры (педагогика, театр, кино), и самые передовые культурные явления этих стран. На страницах книги мелькает целая вереница имён людей, с которыми взаимодействовала Анна: её земляки Леон Паэгле и Линард Лайцен, деятели советского искусства – Всеволод Мейерхольд, Дзига Вертов, Сергей Третьяков, немецкого – Бертольт Брехт, Эрвин Пискатор и, конечно же, Бернгард Райх, её муж и сподвижник, который вместе с ней переехал в Советский Союз и которому она посвятила свою книгу. Все эти и многие другие люди, как и сама Анна Лацис, мыслили себя в едином пространстве, не разделённом границами, спорили и обменивались опытом, и никто из них не ставил свою национальную культуру выше другой. Потому что все они были объединены общей идеей и свою творческую деятельность увязывали с преобразованием общества.
Творчеством Лацис занималась, мягко говоря, далеко не всегда в тепличных условиях. Сначала работа с детьми-сиротами в Орле в годы гражданской войны, затем, в 1920-е – создание самодеятельного рабочего политического театра в Латвии, в условиях полуподполья и преследований, которым подвергалась коммунисты и сочувствующие им, в том числе и сама Лацис. Оказавшись в Карагандинском лагере в СССР, после своего ареста в 1937 году (свою вину в «принадлежности к антисоветской националистической организации» и «шпионаже в пользу иностранного государства» она на следствии так и не признала), Анна и там ставила спектакли, что, по словам её солагерников, было поистине подвигом в тех условиях. Правда, эта часть биографии в книге Лацис отражена всего лишь одной фразой: «В течение десяти лет я руководила клубной самодеятельностью в Казахстане». Здесь следует отметить, что, по сути, «Красная гвоздика» была не написана ей самой, а составлена журналистами на основании её автобиографии, интервью и ранее изданных на немецком языке мемуаров, причём в переписке она отмечала, что в процессе подготовки рукописи к изданию «вычеркнуто всё то, что мне очень важно». Окончательный вариант мемуаров был издан уже после смерти Лацис.
Как переживала она, убеждённая коммунистка, свой арест и заключение в Советском Союзе, расстрел многих своих товарищей и земляков, которые, как и она сама, по собственному выбору покинули родную страну и приехали в СССР? Об этом читателям книги остаётся догадываться лишь по фото Лацис 1948 года (после её освобождения из лагеря), так не похожему на её романтические снимки 1920-х годов: суровое лицо, печальные и как будто немного растерянные глаза и брови, поднятые в немом вопросе. Да ещё по описанию диалога со старым знакомым, встреченным в Риге после возвращения из лагеря:
« – Вы живы?
– Как видите, – грустно улыбнулась я».
Тем не менее, книга получилась очень личная, несмотря на все умолчания. Кажется, одни из самых проникновенных её страниц посвящены описанию деятельности Клуба левых профсоюзов в Риге 1920-х годов – яркого примера низовой революционной культуры, которая охватывала тогда не только деятелей искусства, но и была составной частью повседневной жизни и быта многих обычных трудящихся людей по всему миру: «Вечерами кипучая жизнь в нашем клубе напоминала картины Брейгеля. В одном углу гремел духовой оркестр, в другом – молодёжь занималась гимнастикой и акробатикой, а в третьем составлялся репертуар. В боковой комнатушке журналисты писали свои статьи и здесь же, примостившись на ящике, художник рисовал плакат, а на небольшой сцене шла репетиция».
Впечатляющие картины организованного рижскими рабочими Праздника культуры – карнавальное шествие через весь город с лозунгами «Знания и культуру – народу!», «Свободу пролетарскому искусству!» и массовая театральная постановка под открытым небом (после которой Лацис была арестована). Как ни горько это осознавать, но всё это из сегодняшнего дня смотрится какой-то фантастикой. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, и попытка механически воспроизвести то же самое сегодня выглядела бы смешно и нелепо. Многие великие слова и понятия стёрлись от частого и бездушного употребления, а то и вовсе опорочены. Та система идейных координат, в которой существовала и Анна Лацис, и её друзья и коллеги по левому искусству из разных стран мира, и участники тех рабочих клубов, не во всём выдержала испытание реальностью, что показывает и судьба самой Анны. Нет смысла в ностальгии по безвозвратно ушедшему прошлому, но есть смысл в том, чтобы, сохраняя благодарную память о своих предшественниках, попытаться понять, в чём они ошибались и что изменилось в мире с тех пор, как жили и творили они. И всё же, несмотря ни на что, продолжать искать ту дорогу, на поиски которой они отдавали свои силы и свои жизни.