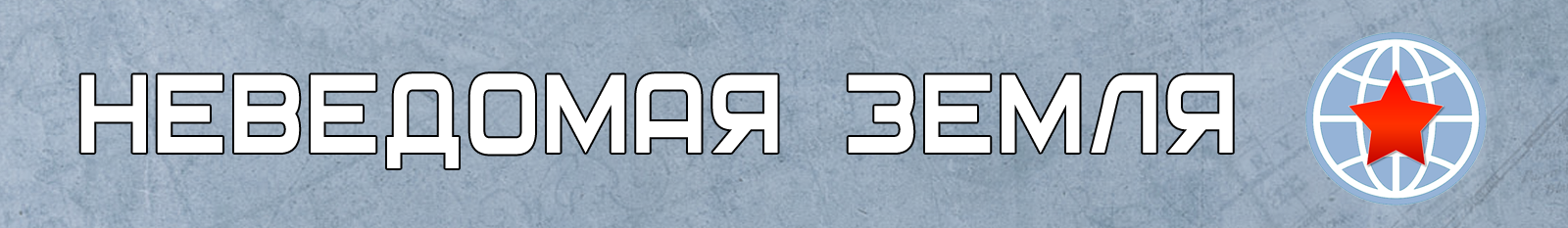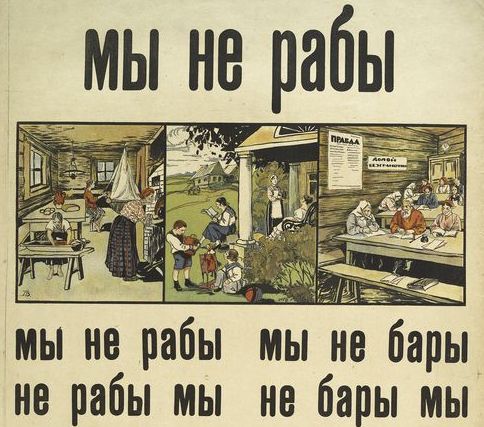
Задумываться над смыслом слов, которые мы употребляем, очень полезно – это многое расставляет на свои места. Поводом к этому тексту стал частный пример сравнения двух родственных славянских языков – русского и украинского, в котором термин «хозяйство» звучит как «господарство». Ничего не напоминает?
Правильно, это то же самое, что наше родное «государство». «Господарь», то есть «хозяин», «владелец» – более ранняя форма титула «государь», и именно в такой форме этот титул использовался в средние века многими восточноевропейскими правителями, в том числе и московскими царями. В России XVIII-XIX веков обращение «государь» (позже сократившееся до «сударь») применялось не только к царю, но и к любому представителю привилегированного класса и по смыслу было аналогично обращению «господин».
Из этого маленького факта можно сделать множество важных выводов. Во-первых, о тесной связи между понятиями власти и собственности, ведь и слово «власть» происходит от глагола «владеть», «обладать». Сам язык, подтверждая мысли немецких бородатых философов, показывает, что политическая надстройка под названием «государство» появляется там, где есть экономическое и социальное неравенство, где люди начинают делиться на тех, кто обладает собственностью, и остальных, которые ею не обладают и в силу этого становятся зависимы от первых. Короче говоря, на господ и рабов.
При этом связь между понятиями власти и собственности работает в обе стороны, как можно видеть на примере советского опыта: хозяев в результате революции прогнали, но потом неформально, за глаза стали называть «хозяевами» руководящих товарищей, в том числе самого главного из них. Это показывает, что отношения неравенства воспроизводились в реальности, как и в языке, даже после устранения частной собственности. Вроде бы всё стало общим, но когда все решения относительно общих дел принимаются немногими, старый мир, изгнанный в дверь, пролезает через окно. Впрочем, хозяевами в полном смысле слова, включая его экономическую составляющую, советские начальники всё-таки не были, не случайно на излёте советской эпохи так распространены были сетования на отсутствие того самого «настоящего хозяина». Люди забыли, что хозяин (если не считать т.н. самозанятых) – то же самое, что господин, а там, где есть господа, там неминуемо будут и рабы, поскольку эти два понятия существуют только в паре друг с другом.
Второй момент, связанный с этимологией слова «государство»: оно оказывается сопряжённым не только с экономикой, но и с религией. Господь – тот же самый господин-хозяин, только на небе. Аналогичные параллели хорошо прослеживаются и в других языках. Латинское Dominus – это одновременно бог, правитель и владелец (отсюда монахи-доминиканцы – «псы божьи», доминирование – господство, домен – земельное владение). Английское Lord, «властелин», адресуется и Всевышнему, и представителю наследственной знати. Общесемитское «Баал» сначала использовалось применительно к земным людям в значении «хозяин», «владыка», а потом стало именем бога; впоследствии в иудаизме и христианстве Ваал, как и другие «неправильные боги», отождествлялся с сатаной, «князем мира сего», а в русской литературе второй половины XIX века превратился в один из символов капитализма. А подозрительная схожесть между словами «бог» и «богатство» объясняется общим корнем bag-, слова с которым встречаются у самых разных народов и, внезапно, тоже имеют отношение к материальным благам; так, древнеперсидское «baga» (бог, господин) образовано от глагола «наделять, дарить», одно из его производных – вошедшее в европейские языки слово «бакшиш» (подарок, взятка). В общем, если судить на основании языка, то религия оказывается проекцией «на небеса» вполне земных реалий, снова в согласии с мыслями упомянутых выше немецких бородачей.
И, наконец, третий момент. Понимая этимологию слова «государство», мы можем сравнить её с этимологией слова «страна» – и увидеть, что эти два понятия, которые столь часто смешиваются и в повседневной, и в политической речи, на самом деле несут в себе два различных набора смыслов. Слова «страна», «сторона», как и близкое им по значению слово «край», указывают на положение в пространстве, то есть говорящий имеет в голове систему координат, в которой точкой отсчёта является то место, где он живёт, где родился и вырос. Причём все эти слова могли применяться и к России в целом, и к отдельному её региону, и к конкретному городу или селу, и даже к отдельной части этого города или села. В любом случае, тут важна личностная, эмоциональная связь человека с местом, которому он считает себя сопричастным. Прилагательные «родной», «отчий», выделяющие его край из всех прочих, и производные от них понятия «родина», «отечество» указывают на то, что эта сопричастность касается не только самого человека, но и его предков и уходит корнями в прошлое. «Государство» же, как показано выше – это про отношения господства и подчинения, а не про личные чувства и историческую память.
Принадлежность к той или иной стране сама по себе не противопоставляет людей друг другу: в пословице «Всякому мила своя сторона» отражено понимание того, что жителям иных сторон/стран, то есть, дословно, иностранцам, свойственно испытывать по отношению к своему родному месту те же самые чувства, которые говорящий испытывает к своему. Противопоставление возникает, когда в дело вступают экономика и политика (иногда ещё в связке с религией), то есть всё то, что вращается вокруг понятия «господство», оно же «государство». Согласно логике самого языка, понятие «страна» означает только некую территорию и ничего более. Оно не включает в себя представление о том или ином общественном порядке, господствующем на этой территории. Поэтому и патриотизм, то есть приверженность своему отечеству (patria), может иметь совершенно разное политическое содержание в разных условиях: патриотами называли себя и французские революционеры конца XVIII века, и русские националисты-монархисты начала ХХ века.
Таким образом, привязанность к своей стране вовсе не обязательно подразумевает привязанность к государству, существующему в этой стране в данный момент времени. И, напротив, неприятие конкретного государства или же вообще самой идеи государства, самого деления мира по государственным границам вовсе не означает равнодушия к своей стране. Владимир Маяковский мечтал о том, «чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем», но это не мешало ему признаваться в любви к «земле, с которой вдвоём голодал».
И напоследок ещё немного о господах и рабах. В книге Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех», прекрасно показывающей сущность понятий «капитализм» и «отчуждение», есть момент, когда мальчик Тим, наследник огромного состояния, позволяет себе отнестись по-человечески к служанке (отдаёт ей свой зонт, когда та собирается выйти на улицу под дождь), а его опекун барон Трёч начинает его поучать: мол, человечество делится на рабов и господ, и стирать эту границу очень опасно, ибо «должны быть люди, которые думают и отдают приказы, и люди, которые выполняют эти приказы, не думая». На реплику Тима, который считает более верным деление людей на умных и глупых, Трёч отвечает: «Умные – это и есть господа, а глупые – рабы».
– «Селек Бай рассказывал мне, – возразил Тим, – что во многих странах господином становится только тот, кто случайно им родился.
– Рождение – это не случайность, – мрачно пробормотал Трёч. – К тому же, господин Талер, Селек Бай – коммунист, только сам он этого не знает».
Селек Бай, представитель секты огнепоклонников (езидов), по книге является одним из акционеров корпорации Трёча и при этом тайно помогает в борьбе рабочим, которых эксплуатирует эта корпорация. Пожалуй, это одна из лучших в детской литературе зарисовок на тему того, что такое коммунистическая идея в самом полном и широком смысле этого слова. Практически о том же писал в XVIII веке Роберт Бёрнс, когда слова «коммунист» в ходу ещё не было: «Who wilt not be, nor have a slave», то есть, в переводе Самуила Маршака:
Кому равно претит судьба
Рабовладельца и раба.
Или, как пелось в «Песне единого фронта» на стихи Бертольта Брехта в ХХ веке, когда слово «коммунист» уже было в ходу:
Er will unter sich keinen Sklaven sehn
und über sich keinen Herrn,
то есть, дословно, «Он [человек] не хочет видеть ни рабов среди подобных себе, ни господ над собой».
И, наконец, самый лаконичный вариант – в первых советских букварях: «Мы не рабы, не бары мы».
Коммунист – тот, для кого деление на господ и рабов неприемлемо (потому что communis – это общий, принадлежащий всем в равной мере и никому в отдельности, а никакая настоящая горизонтальная общность, она же коммуна, невозможна там, где есть господа и рабы). Всё остальное вытекает из этого. Многие, как Селек Бай, могут даже не догадываться о том, что они являются коммунистами. Другие могут называть себя этим именем и даже бить себя при этом пяткой в грудь, но на практике они считают деление на господ и рабов неизбежным или не столь важным перед лицом других обстоятельств, либо служат тем или иным господам, либо мечтают сами пролезть в господа. А в сущности ведь всё просто, достаточно только немного разбираться с этимологии.